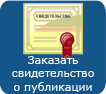© Copyright: Максим Вячеславович Гуреев
МОРАЛЬНАЯ КОДИФИКАЦИЯ СТОЛИЦЫ И ПРОВИНЦИИ:
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ [1].
Бинарная оппозиция «столица – провинция» отчётливо проявляет себя не только в рамках политической или экономической актуализации, но и в контексте развития морали, пронизывающей все сферы жизни общества без исключения. Современный этико-культурологический дискурс всё настойчивее сталкивает нас с необходимостью изучения механизма моральной кодификации и социальных феноменов, соответствующих ему на общероссийском и региональном уровнях. Одной из принципиально важных задач при анализе данной проблематики является сопоставление общих и специфических черт обозначенного механизма моральной кодификации, проводившейся ранее и осуществляющейся так или иначе сейчас в столице и провинции. Начнём со специфики, ибо её легче выявить и проанализировать; логично идти от простого к более сложному.
Среди отличительных черт моральной кодификации, реализуемой в столице и в провинции, в первую очередь бросается в глаза их функциональная специфика: в столичном случае данный вид кодификации всегда носит искусственно-регламентированный характер, в провинции же мораль кодифицируется естественно-спонтанным образом и в этом смысле кодификацией называется лишь условно. Собирание земель и провинций вокруг централизовавшегося древнего Рима, насильственное сплошь и рядом присоединение территорий к некогда великому Монгольскому ханству, русский вариант централизации вокруг Москвы и тому подобные примеры так или иначе свидетельствуют, помимо всего прочего, и о том, что наравне с выработкой формализованных обычаев, складыванием претендующих на глобальность традиций в сферах политики, экономики и права правителям, представлявшим центростремительную силу необходимо было опираться для легитимации своей власти и прерогатив своего режима на механизм моральной кодификации, который, разумеется, везде проходил неоднородно и неоднозначно.
Даже такая, казалось бы, примитивная на общем фоне XII-XIII вв. цивилизация, как монгольская, тем не менее, имела под собой и развивала далее достаточно интересные социокультурные основания. Как отмечает Ю.Л. Говоров, успехи военных побед монголов носили двойственный/бинарный характер: их причины крылись как в социально-психологических и организационных особенностях быта самих агрессоров, так и в специфическом миропонимании, связанном с определённым моральным наполнением, порабощаемых народов. «Немонгольский мир считал монгольские завоевания “карой небес”, ниспосланной на него за грехи его, поскольку не мог понять причины “ярости татар” из-за отсутствия у них религиозной идеи как стимула экспансии. Однако идеология завоевания у монголов была (не только алчность воинов до грабежа и яростный “торговый империализм” социально-политической верхушки). Монгольская внешнеполитическая доктрина требовала от всех иностранцев безоговорочного подчинения Великому Хану, считавшему себя неким мистическим звеном, медиатором между Небом и народом: “Мы должны завоевать всю Землю и не иметь мира ни с каким народом без его повиновения нам”.
С точки зрения авторов Великой Ясы, каждая нация, отказавшаяся признать власть Великого Хана, рассматривалась как “восставшая” и противодействовавшая “воле Неба”. Таким образом, согласно пресловутой иронии истории, взгляды победителей и побеждённых на монгольские завоевания как проявление воли и кары Небес парадоксальным образом накладывались друг на друга. Как утверждал Батый, “кто бы ни нарушил Великую Ясу, тот должен потерять свою голову”. Примечательно, что монгольская концепция императорской власти, возлагавшая на Великого Хана руководство разрушительной миссией завоевания мира, существенно отличалась от внешне аналогичной китайской концепции, в которой император должен как можно меньше управлять и может ограничиваться только прокламированием номинального суверенитета Китая над остальным миром. Китайская концепция имеет целью синологизацию завоёванных территорий для расширения сферы господства китайской цивилизации с её традиционными моральными принципами, монгольская концепция предполагает элементарный и, желательно, систематический грабёж остального, более развитого и культурного мира» [1]. Таким образом, если выражаться концептуальным языком, приближенным к марксистско-ленинскому, любая цивилизационная надстройка необходимо предполагает наличие легитимирующего её морального базиса, сколь бы аморальным он ни был в глазах потомков.
Второй отличительной чертой в контексте рассмотрения моральной кодификации столицы и провинции, тесно взаимосвязанной с первой, является уровень соотношения тайного и явного в передаче и трансляции того или иного морального или моралистического учения. Провинция, как правило, эзотерична, тяготеет к некой тайне, к уходу от излишних разговоров, к неразрывной связи с непосредственной практикой. Причём эта тайна складывается вполне естественным образом: для того, чтобы понять провинцию в её необезображенном ХХ-ым веком варианте, недостаточно быть просто талантливым учёным, журналистом, писателем или любым другим субъектом, занимающимся целенаправленным и систематичным сбором информации. Необходимо именно прожить кусочек, частичку своей жизни на изучаемой земле – для того, чтобы понять «тайну» провинции изнутри, рассмотреть, казалось бы, очевидные объекты, явления и процессы другими глазами, иным взором, незамутнённым внешней столичной или напоминающей таковую цивилизацией. Тайна моральной кодификации провинции не в сознательном сокрытии чего-либо, не в стратегическом засекречивании, а в диалектике внешнего и внутреннего, формального и приватного. Провинциал не скрывает тайну – он сам тайна, и будет таковой тайной до тех пор, пока изучающий его субъект сам не станет частью этой «субкультуры».
Провинциальная мораль не любит поспешность, инновационность и всегда нравственно готова дать отпор информационному напору извне, противопоставить свои личностно и жизненно прочувствованные коды тем моральным кодам, которые органично и естественно не вплетены в жизнь провинциала. Противостояние «Родины русской государственности», Великого Новгорода и Москвы, начиная со времён Ивана Грозного и даже ранее, представляется в этой связи также весьма и весьма неслучайным.
Столичная же моральная кодификация целиком и полностью экзотерична, растиражирована, распиарена, жаждет впитать в свой процесс максимум народонаселения, но эта экзотеричность очень часто преследует перед собой тайные цели тех, кто является её инициаторами; а таковыми, как правило, выступают представители либо светской политической, либо религиозной власти. Многие приверженцы коммунистической идеологии до сих пор продолжают обвинять проповедников РПЦ в скрытом манипулировании массами, и, надо сказать, в части случаев первые правы; но далеко не всегда. В своё время «Моральный кодекс строителя коммунизма» был максимальным воплощением именно столичной, центростремительной кодификации; сегодня определённые попытки, напоминающие тот грандиозный проект, но на иной идеологической почве, пытается создать другая оккупационно-«правительственная» партия. Провал таких попыток очевиден, ибо некогда выстраданная поколениями наших предков связь столицы и провинции на моральном уровне давно утрачена, и индифферентное отношение политиков к своему народу уже давно не является эзотеричным.
Вообще, следует сказать, что тысячелетия актуальности эзотерики стали уходить в прошлое ещё в ХХ веке; сейчас, в начале XXI-го, эзотерики как таковой по определению нет или же её осталось крайне мало по сравнению с предшествующими эпохами. К примеру, правомерно ли называть эзотеричными/эзотерическими те книги, которые издаются тысячными тиражами или учения, последователи которых выступают с трибун и по общественным радио и телевидению? Ответ очевиден. Другое дело – отсылка, апелляция к так называемым неочевидным смыслам, для постижения которых якобы нужен этот и никакой иной Учитель (Гуру, Сифу, Сэнсэй и т.д.). Однако, опасность ошибочного выбора наставника очень велика и на этом пути. В роли такого Учителя долгое время выступала столица по отношению к провинции и завоёванное титаническими усилиями доверие во многом было бездарно утеряно и дискредитировано потомками моральных кодификаторов прошлого.
Как отмечал в своих лекциях Жиль Делёз, «все тела общества по существу заняты одним – им важно помешать тому, чтобы по нему, по его спине, по его телу текли потоки, которые оно не могло бы кодировать и которым оно не могло предписать определённую территориальность.
Общество может кодировать нехватку, нужду, голод. То, что оно не может кодировать – это возникновение чего-то, при виде чего общество восклицает: да что это за люди? Сначала в ход пускается репрессивный аппарат и, раз уж не удаётся произвести кодирование, то за этим следует вывод инициаторов о том, что нужно это некодируемую субстанцию попытаться уничтожить. Затем делается попытка найти новые аксиомы, которые позволили бы провести более-менее удачное перекодирование.
Общественное тело определяется следующим образом: с одной стороны, общество – это вечные подпольные проделки, постоянно разные потоки протекают снизу, текут от одного полюса к другому, а с другой стороны, общество всегда является кодом, и раз существуют потоки, которые ускользают от кодов, то есть и общественное усилие, направленное на присвоение, на аксиоматизацию этих потоков, на небольшую перестройку кода, лишь бы создать место и для опасных потоков: так, ни с того, ни с сего появляются молодые люди, которые не отвечают коду, они завладевают тем потоком…, который не был предвиден. И что же мы будем делать? Мы попытаемся перекодировать, добавим аксиому, быть может, попробуем всё восстановить, а иначе останется что-то внутри, что по-прежнему не будет поддаваться кодированию, и что тогда?
В других терминах, фундаментальный акт общества состоит в следующем: кодировать потоки и считать врагом то, что по отношению к нему представляется как некодируемый поток, поскольку… такой поток ставит под вопрос всю землю, всё тело данного общества» [2, c. 36-37]. В нашем случае наблюдается расхождение потока морали, кодифицированной традиционным способом, и того инновационного потока, который создают и воссоздают неугомонные столичные жители. Налицо определённый парадокс: не старое перекодирует новое под себя и свои особенности, а, наоборот, перманентно модернизирующийся «центр» пытается навязать «периферии» всеми доступными ему способами (порою даже насильно) представляющиеся оптимальными на современном витке развития моральные коды. Чем-то данный процесс по описанию очень сильно напоминает сюжет известного художественного фильма «Матрица» (1999).
Символическое значение основных организационных требований, возникающих в межличностных и социальных отношениях в процессе моральной кодификации столицы, прежде всего, связано с коренными дилеммами социальной жизни – «иерархия и равенство, конфликт и гармония, индивид и общность» – а также с относительным значением «власти, солидарности или институциональных побуждений как главных ориентаций в социальном порядке» [4, c. 71]. Стремление столицы к социальному порядку выражается «на всех уровнях социального взаимодействия – от более неформальных межличностных отношений через различные формальные или институциональные разряды вплоть до формирования макросоциального порядка» [4, c. 71].
В теории и истории культуры термином «провинциализм» традиционно принято обозначать «отсталость, узость, ограниченность жизненных взглядов и культурных потребностей, обусловленных жизнью в глухой провинции, далеко отстоящей от культурного центра» [3, c. 396]. Однако, мы сейчас живём уже в то время, когда давно понят абсурд технократических утопий, за которые продолжают цепляться, как курильщики за глоток никотина, наиболее поверхностные политиканы и бездуховные коммерсанты-спекулянты.
Провинция явно может страдать материально-технической «отсталостью», но обвинять её в узости взглядов и ограниченности удовлетворения культурных потребностей было бы весьма неправомерно. Как административная, так и культурная столицы России демонстрируют ничуть не меньше примеров аморализма и безнравственности, чем провинциальные «дикари». Приезжая в крупный, целиком и полностью урбанизированный город, нередко поражаешься обилию звучащей там матерной лексики на улицах и количеству загаженных тротуаров и обочин. В таких случаях начинаешь даже невольно гордиться за свой родной «провинциальный городок». Помимо этого, не следует забывать, что к концу ХХ века наметился достаточно нешуточный отток представителей гипертрофированных инфраструктур в провинциальные местности на время выходного досуга или отпуска, стало престижным иметь загородный или провинциальный домик, дабы отдохнуть от лишней суеты и шума.
Чем выгодно отличается сознание среднестатистического столичного жителя от его провинциального собрата, так это его быстрейшей адаптацией к изменяющимся внутренним и внешним условиям. Моральные и эстетические ценности и смыслы, кодифицированные в провинциальных культурах, могут незыблемо стоять веками, но не дай Бог им свалиться, рухнуть, и поднять их заново будет делом весьма и весьма проблематичным. Люди, привыкшие к жизни в столице, научились не только мягко приземляться после падения, но и своевременно отфутболивать кого-то в ответ, без лишних раздумий на тему «хорошо это или плохо? морально или аморально?». Постоянная динамика впитывается в их кровь намного быстрее, хотя, с другой стороны, она нередко приводит и к чрезмерной поверхностности, к неправомерно полному смещению акцента той или иной социокультурной работы с процесса на результат. В этой способности к адаптации, в скорости усвоения новых кодов культуры нам видится третья принципиальная особенность, различающая столицу и провинцию.
Пытаясь выявить общие черты моральной кодификации у её столичного и провинциального вариантов, мы с неизбежностью приходим к следующим выводам.
Во-первых, и столица, и провинция в лице своих наиболее плодотворных и активных представителей, в процессе оформления и запуска определённых моральных кодов апеллируют к идее общего, общественного блага. Если отвлечься от трансцендентной кантовской трактовки и погрузиться в сферу непосредственных социокультурных практик, то становится очевидным, что соблюдение морали важно не само по себе, а лишь постольку, поскольку оно обеспечивает успешное воспроизведение социума. Авторитет традиции и предков в российской провинции был достаточно велик, но не в силу их слепого почитания, а именно в силу того, что был подтверждён незыблемостью и фундаментальностью общества или, во всяком случае, имеющей под собой достаточные основания кажимостью таковых. Чем больше социальных гарантий на процветание или, во всяком случае, на то, что не станет хуже, чем было, сулит моральная кодификация, тем успешнее она происходит: как в столице, так и в провинции. Что характерно, здесь тоже наблюдается некоторая специфическая нюансированность: столица в этом плане более зависима от вербально-логических «доказательств» в пользу того или иного морального кодекса, тогда как провинция очевидно тяготеет к интуитивно-практическому постижению морального авторитета.
Во-вторых, моральная кодификация в обоих анализируемых нами вариантах – и в столичном, и в провинциальном – связана со вписанностью коммуникативных связей трансляторов и реципиентов в определённый иерархический порядок. Вернее говорить не о том, что традиционная (читай в данном случае: провинциальная) мораль анонимна, а о том, что она стала анонимной тогда, когда с подачи конкретных авторитетных инициаторов была принята и усвоена субъектами, стоящими на порядок ниже первых в социально-символической иерархии. Разумеется, в случае со столицей перекрещивающиеся линии субординации и координации более очевидны и указывают ещё на один нюанс: столица испокон веков стремилась к закреплению конкретного авторства, к отпечатыванию в истории Личности. Для традиционной провинции это намного менее характерно: не столь важно, кто создал эффективную социокультурную систему – куда важнее, что она до сих пор успешно работает и воспроизводится.
В-третьих, эффективность и столичной, и провинциальной моральных кодификаций напрямую зависит от удачного созвучия регламентированного комплекса норм и правил, привнесённых извне, и нравственного мироощущения большинства представителей того или иного населённого пункта. Большее право на своё Эго, на отстаивание своих личных, нравственных критериев различения добра и зла проявляется в деятельности столичного эмансипированного жителя; однако, казалось бы, меньшая роль личностной позиции провинциала компенсируется тем, что пока он не согласует свою нравственную позицию с общепринятой моральной, механизм в целом никуда не сдвинется. Тот, кого народная пословица охарактеризовала, как «в семье не без урода», может перетянуть на себя не только внимание остальных реципиентов, но и даже авторитет, на который рассчитывали правящие элиты. В Москве или Санкт-Петербурге много, на первый взгляд, интересных оригиналов, но именно из-за того, что их так много, само желание быть оригинальным выглядит достаточно банальным и в ряде случаев даже примитивным. Настоящая этическая сенсация вследствие неровно, «коряво» произведённой моральной кодификации возможна только в провинции.
Таким образом, мы видим, что при сопоставительном анализе принципиально важного для социума механизма моральной кодификации в столице и в провинции обнаруживается достаточно много нюансов и уточнений. Внешние, формальные сходства обоих процессов дополняются большим количеством специфических черт, которые раскрывают перед нами достаточно обширные перспективы для дальнейших этико-культурологических исследований.
Список литературы.
- Говоров, Ю. Л. История стран Азии и Африки в средние века. Основы лекционного курса [Электронный ресурс] / Ю. Л. Говоров. – Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 1998. – Режим доступа: http://history.kemsu.ru/oldversion/PUBLIC/govorov1/index1.htm
- Делёз, Ж. Лекции (к онтологии потоков). Ноябрь-декабрь 1971 [Текст] / Ж. Делёз. – I. Коды и капитализм (лекция от 16 ноября 1971 года) // Ложь права? : теоретический альманах «Res cogitans № 4». – М. : Книжное обозрение, 2008. – 147 с.
- Хоруженко, К. М. Культурология. Энциклопедический словарь [Текст] / К. М. Хоруженко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 640 с.
- Эйзенштадт, Ш. Н. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций [Текст] / Ш. Н. Эйзенштадт ; пер. с англ. А. В. Гордона ; под ред. Б. С. Ерасова. – М. : Аспект Пресс, 1999. – 416 с.
[1] Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Моральная кодификация, её формы, смысл и роль в развитии общества» (грант НовГУ – № 793 / КТИК – МН).